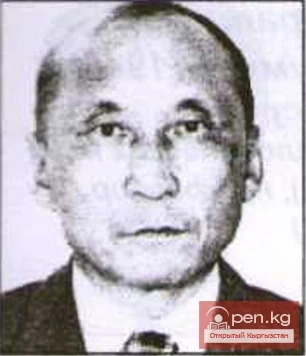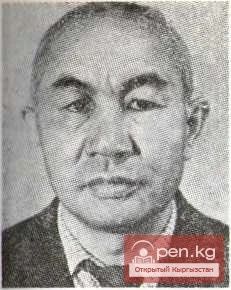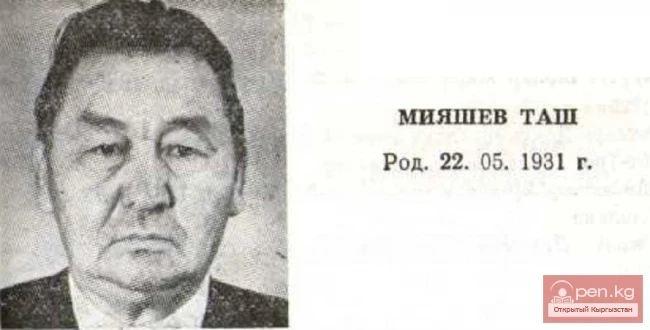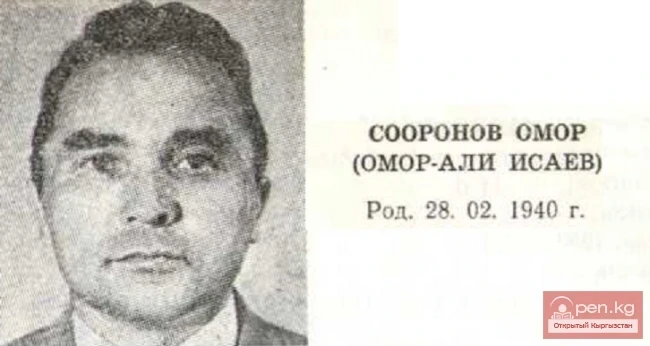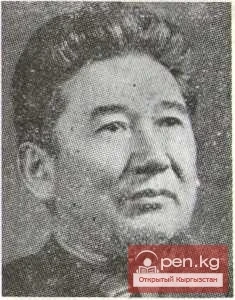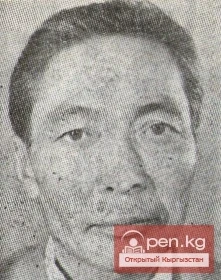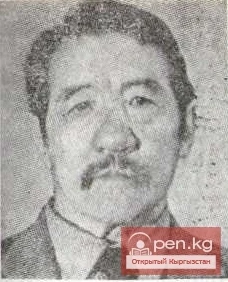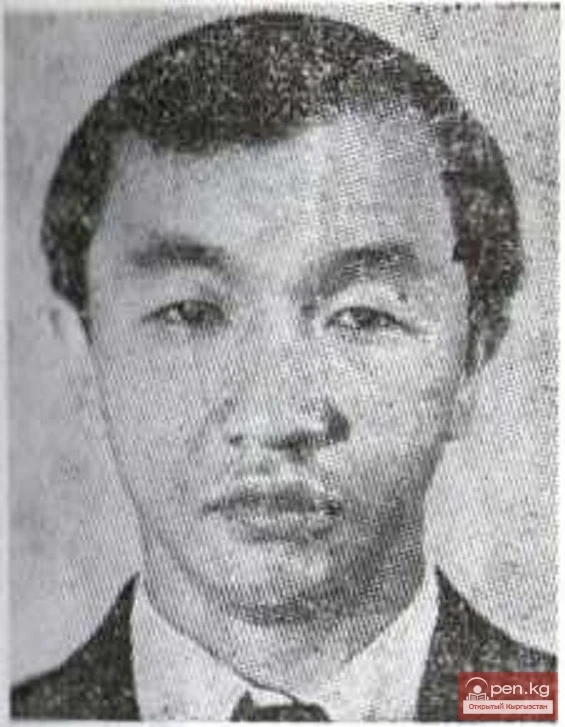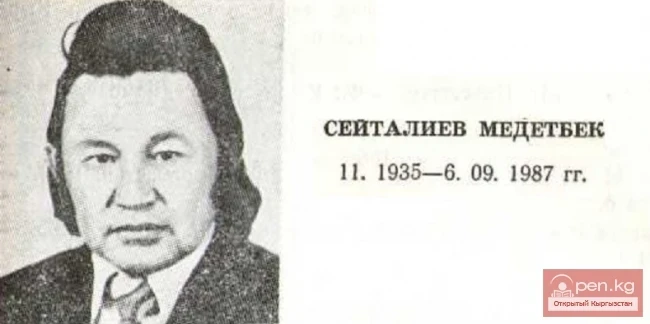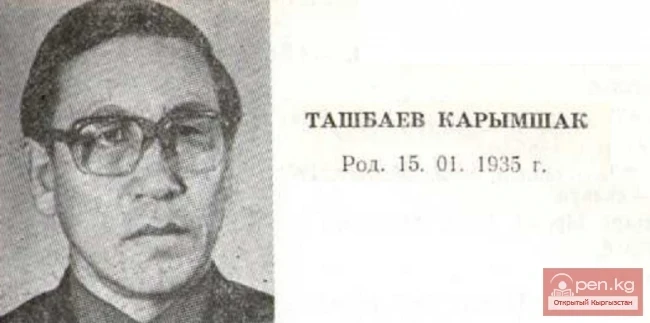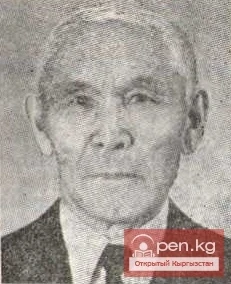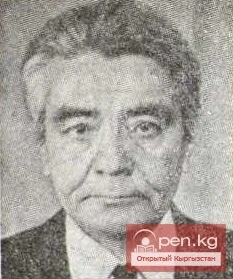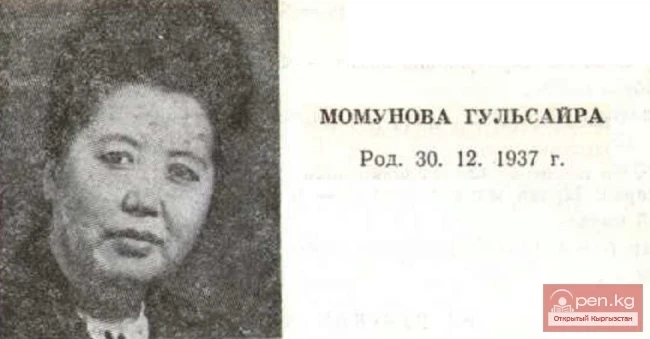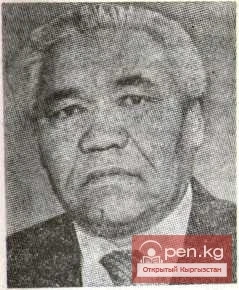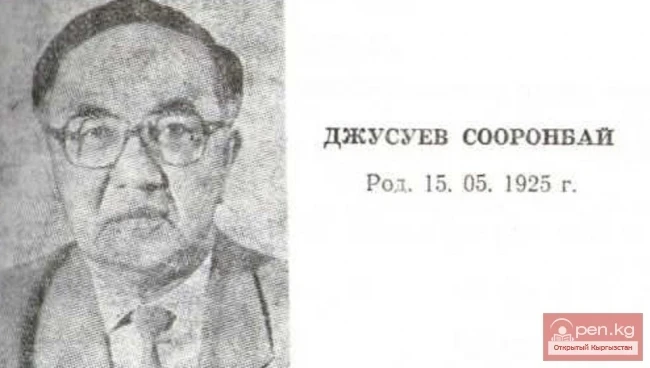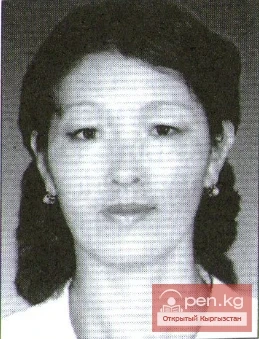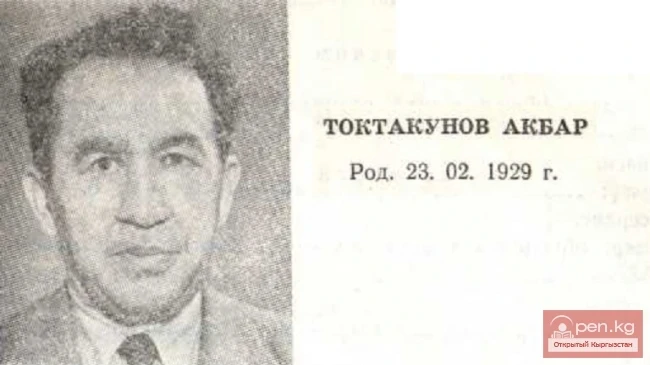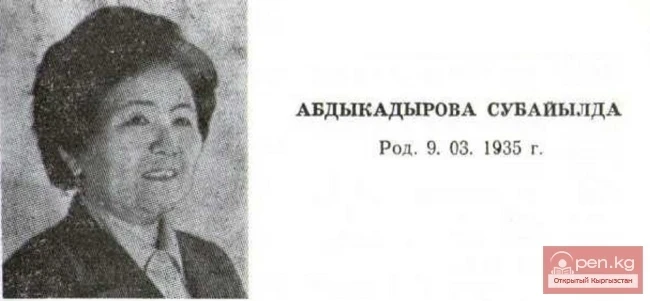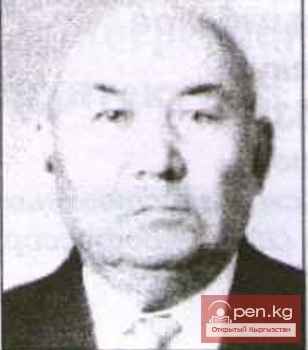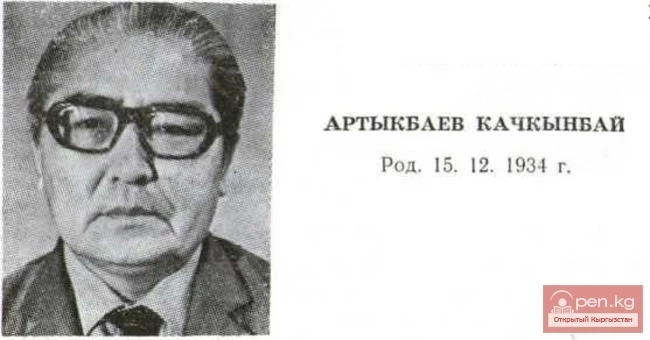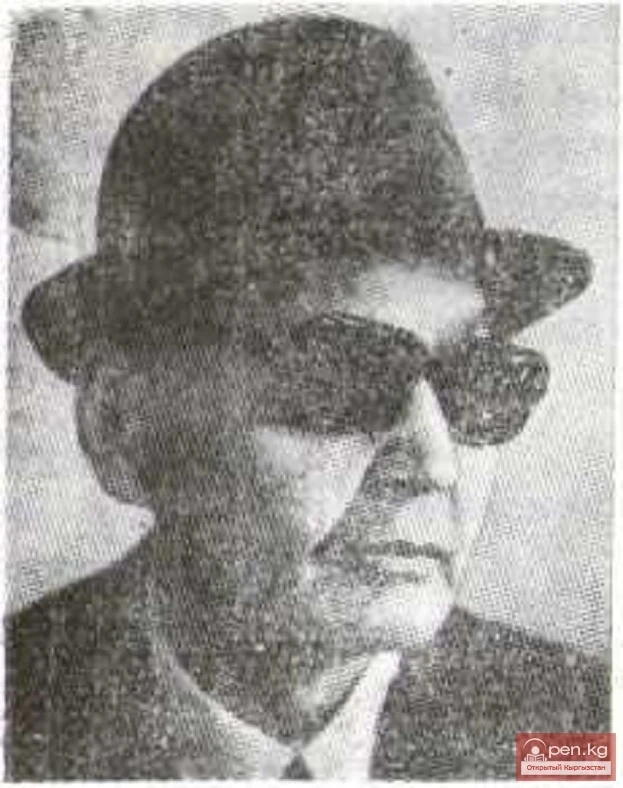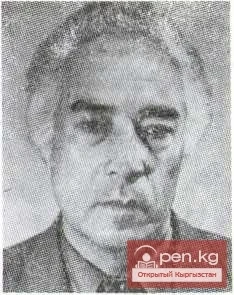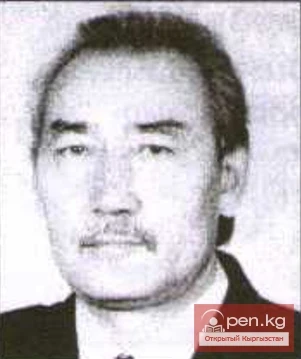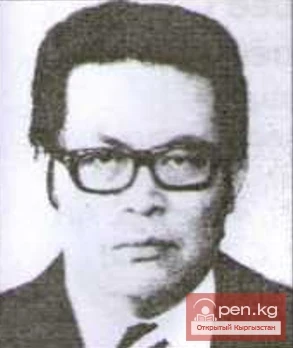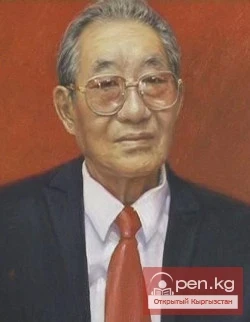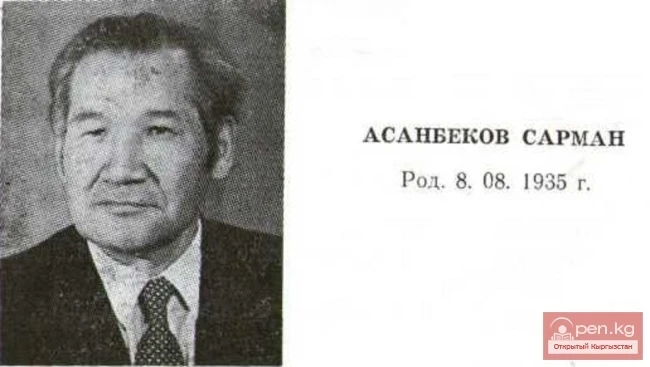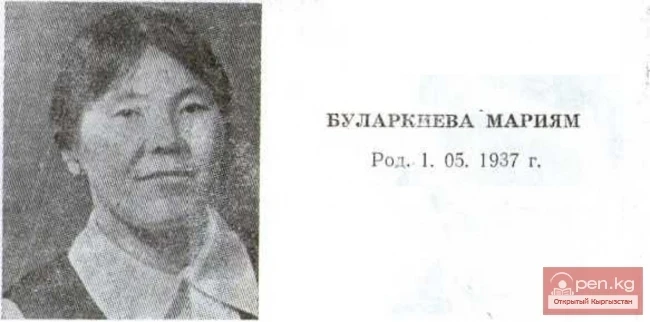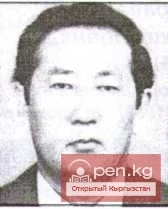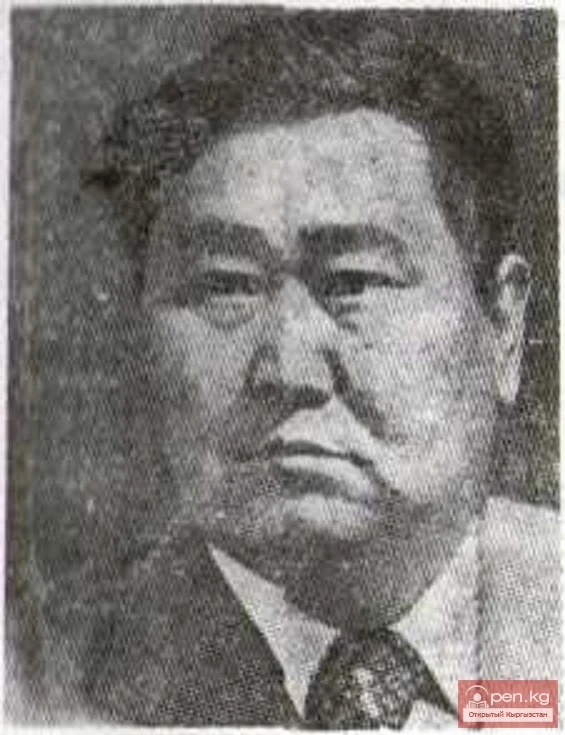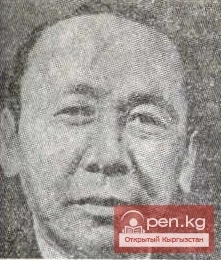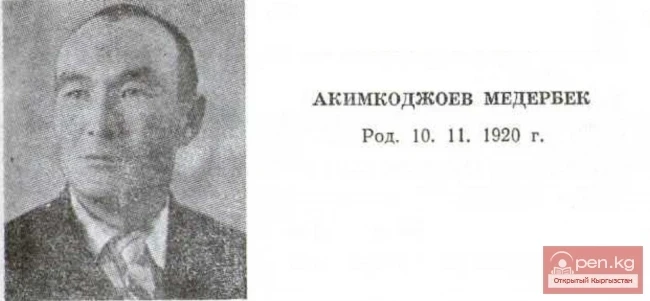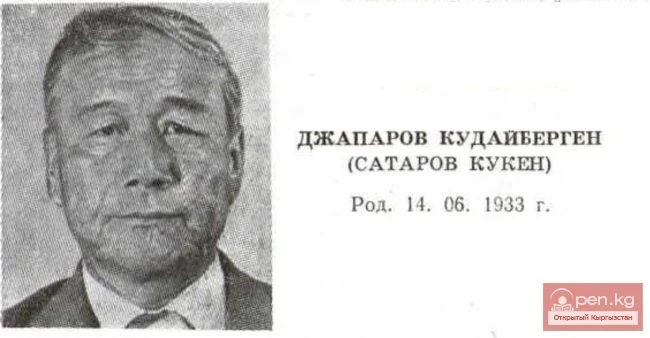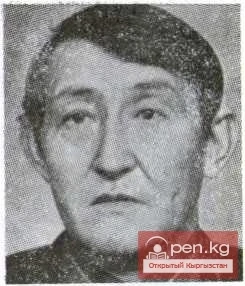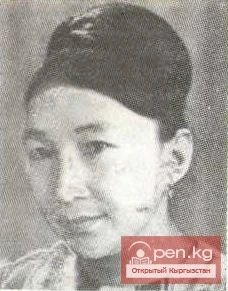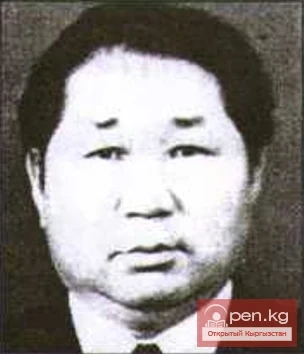Постановление Совета Народных комиссаров РСФСР
31 мая 1930 г. (т. е. тогда, когда Ю. Абдрахманов направлял второе письмо И. В. Сталину), по отчету Совнаркома республики Совет Народных комиссаров РСФСР принял постановление «О хозяйственном и культурном строительстве и перспективах развития Киргизской АССР».
Отметив успехи и отдельные недостатки хозяйственного и культурного строительства, СНК РСФСР определяет перспективы развития автономной республики. Причем почти по всем достаточно объемным вопросам хозяйственного и социально-культурного строительства правительство Федерации вынуждено учитывать наличие двойного и тройного подчинения автономной республики и поэтому формулировать пункты постановления не конкретно, т. е. так, чтобы каждый пункт можно было бы в дальнейшем «состыковать» со среднеазиатскими и союзными органами.
В пункте 5 СНК РСФСР поручается «проработать вопрос о расширении Аламединской и Фрунзенской электростанций и постройке Каракольской тепловой электростанции, детально проработать перспективы развития промышленности Киргизской АССР». Столь же неконкретными, оставляющими необходимость неизбежных согласований являются и поручения Наркомфину РСФСР «при проработке вопроса о финансировании объединенного бюджета Киргизской АССР учесть низкий уровень культурного обслуживания населения и необходимость дальнейшего развертывания ее хозяйства, особенно в пограничных районах».
Конкретнее — и это бросается в глаза — пункты 7—10, в которых речь идет о мероприятиях по народному образованию и здравоохранению. В этой сфере компетенция правительства РСФСР была безраздельна.
Наркомздраву в связи с окончанием строительства Туркестано-Сибирской дороги предложено «обратить особое внимание на развитие курортов Киргизии... и предусмотреть в контрольных цифрах 1930- 1931 гг. соответствующие ассигнования». Народному комиссариату труда поручено «проработать двухмесячный срок совместно с правительством Киргизской АССР вопрос об обеспечении Киргизии, как в порядке межведомственного перераспределения, таким путем командирования окончивших высшие учебные заведения молодых специалистов, кадрами по плановым вопросам, промышленности, торговле и сельскому хозяйству». Госплану РСФСР и СНК Киргизской АССР предложено «при проработке контрольных цифр на 1930—1931 гг. уделить особое внимание изучению производственных сил Киргизии».
Ленинский курс к ликвидации централистской авторитарности нуждался в постоянной поддержке, требовал заботливого внимания. Документы свидетельствуют, что Ю. Абдрахманов, обостренно чувствовший проявления пережитков великодержавной авторитарности, реагировал на их проявления остро, а порой и резко.
«За 1927—1928 хозяйственный год, — писал он, из всей суммы сельхозкредита, предназначенного для кредитования сельского хозяйства Киргизии, 44% попало в руки европейского крестьянства Фрунзенского кантона, составляющего около 11% всего населения республики, а киргизскому населению, занимающемуся главным образом животноводством и составляющему около 70% всего населения (20 занимается исключительно животноводством и 50% животноводством и земледелием), досталось около 5%.
Это не случайность, а результат политики Россельбанка, который при определении целевых назначений кредита подошел к нам с меркой, пригодной для земледельческой части РСФСР, без учета наших национально-экономических особенностей. Своевременно принятые Срсдазбюро ЦК ВКП (б) и Киробкомом ВКП(б) меры по исправлению этой грубейшей «ошибки», к сожалению до сих пор не оказали сколько-нибудь значительного влияния на политику Россельбаика. Он и в этом году продолжает оставаться на своей старой линии, явно отличной от линии партии по национальному вопросу и на практике приводящей к задержке развития основной отрасли киргизского хозяйства — животноводства».
Но все это писалось, когда Юсуп Абдрахманов был председателем Совнаркома.
Безответные письма Ю. Абдрахманова к Сталину