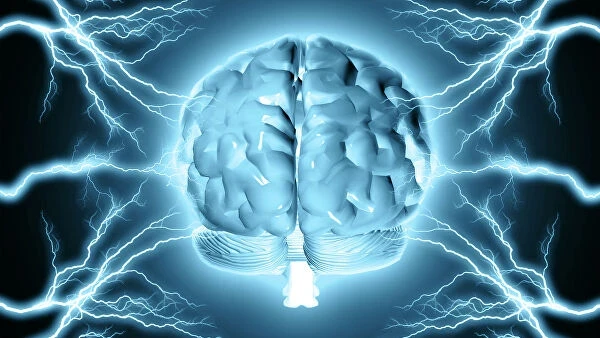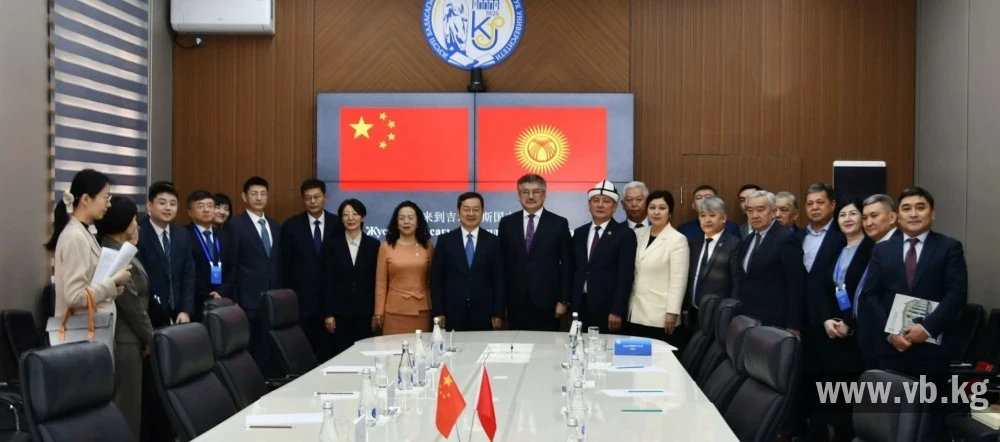– Проблемы действительно существуют. Даже при достаточном финансировании детская онкология остается одной из самых сложных областей медицины. В текущем году мы завершаем ключевой проект для страны – создание условий для проведения самостоятельной пересадки костного мозга, что станет значительным достижением. В настоящее время такие операции проводятся в основном за пределами страны — в Турции или Индии.
– Какие шаги необходимы для этого?
– Прежде всего, нужны специальные палаты с ламинарной вентиляцией для обеспечения высокого уровня стерильности. Их оснащение уже близится к завершению, и вскоре мы сможем проводить операции по трансплантации костного мозга на месте.
– Как обстоят дела с лабораторной диагностикой, без которой современная онкология невозможна?
– Нам необходимы молекулярная диагностика, иммуногистохимия и FISH-лаборатория, а также квалифицированные специалисты. Детские опухоли часто выглядят аналогично в микроскопе, в отличие от взрослых. Без современных методов невозможно точно определить тип опухоли и подобрать наилучшее лечение.
Во всем мире для этого активно используется иммуногистохимия. Однако создание полного набора оборудования для иммуногистохимии в нашем отделении экономически нецелесообразно, поскольку ежегодно у нас около 80 пациентов. Поэтому мы надеемся на развитие этой области в Национальном центре онкологии, откуда будем обращаться за помощью. Аналогичная ситуация и с лучевой терапией.
– Заложены ли эти направления в государственные планы?
– Да, они прописаны в стратегии. Планируется развитие как иммуногистохимии, так и лучевой терапии. Совсем недавно был подписан контракт на поставку аппарата для облучения из Индии. Это создаст отличные условия для лечения наших пациентов всеми доступными методами.
– Известны ли сроки реализации?
– Предположительно, в этом году. Хотя я не располагаю всеми деталями, знаю, что процесс уже начался. Мы также подготовили проект для создания FISH-лаборатории, которая позволит выявлять мутации опухолей. Это поможет заранее определить, будет ли опухоль устойчива к стандартной химиотерапии, и сразу начать более целенаправленное лечение. Оборудование уже существует, и я надеюсь, что в течение года у нас будет собственная FISH-лаборатория. Это значительно повысит шансы на спасение многих детей.
Ключевая сила западной медицины заключается в мощном лабораторном оборудовании. Там заранее определяют, есть ли в опухоли мутации, которые могут снизить эффективность лечения. Это помогает врачам сразу понять, что пациента следует переводить на более сложные методы лечения, такие как таргетная терапия или лучевая терапия.
У нас диагноз ставится чаще всего на основе гистологии. Мы видим опухоль, знаем ее тип и лечим по стандартной схеме. Но в протоколах указаны особые группы опухолей, требующие другого подхода. Без молекулярной диагностики мы не можем увидеть эти особенности.
– Что необходимо для внедрения иммуногистохимии? Нужно ли только оборудование или специалисты тоже важны?
– В первую очередь, необходимо оборудование. Но когда мы пишем проекты, обязательно предусматриваем обучение. Наши лаборанты должны пройти обучение и уметь работать с новыми методами.
– На данный момент родителям приходится отправлять анализы за границу, что приводит к потере времени и дополнительным расходам. Вы принимаете результаты исследований, проведенных за границей?
– Да, мы учитываем результаты таких исследований при определении группы риска и выборе протокола лечения. Мы активно пытаемся ликвидировать отставание в области детской онкологии. При этом осознаем, что это особая сфера, отличающаяся от взрослой, так как профилактика здесь не применяется.
– То есть скрининговые программы не работают?
– Верно. Предотвратить детскую онкологию невозможно. Дети не курят и не работают на опасных производствах. В большинстве случаев это результат спонтанных генетических мутаций, своего рода математическая случайность, которую невозможно предсказать. Все мировые скрининговые программы показали нулевую эффективность, что подтверждается отчетами ВОЗ.
– На что следует делать акцент?
– На раннем выявлении и укреплении первичного звена – педиатров. Мы разрабатываем систему, при которой при наличии двух и более симптомов детской онкологии в электронной амбулаторной карте автоматически будет срабатывать «красный флаг», и ребенка направят к онкологу. В поликлиниках нет детских онкологов, поэтому педиатры играют ключевую роль, и их уровень знаний необходимо повышать.
– Как обстоят дела с кадрами в детской онкологии? Хватает ли врачей?
– Мы хотели бы увеличить штат. Если бы штатная численность была расширена, мы могли бы привлечь дополнительных врачей.
– Проблема заключается в количестве штатных единиц или в уровне заработной платы?
– И то, и другое имеет значение. Однако сейчас врачи начинают приходить в детскую онкологию. Что касается зарплаты, она действительно остается небольшой, но если сравнивать с прошлым, она значительно повысилась и продолжает расти.
– Но разве этого достаточно при такой ответственности и нагрузке?
– Да, здесь большая ответственность, особенно в работе с родителями, которые могут воспринимать все крайне остро и часто обвиняют врачей. Но, несмотря на это, если сравнивать сегодняшнюю медицину с тем, что было раньше, разница колоссальная. Мы даже начали проводить эндопротезирование самостоятельно.
– Что касается эндопротезирования, в соседних странах, таких как Казахстан, Узбекистан и Россия, детям с саркомами костей предоставляют эндопротезы за счет государства. В Кыргызстане такой поддержки нет, а стоимость одного эндопротеза может достигать 20 тысяч долларов, что является серьезной финансовой нагрузкой для семей. Ведется ли работа по решению этого вопроса?
– Этот вопрос находится на обсуждении. Мы сейчас ищем поставщиков. Если компании начнут регистрировать онкологические эндопротезы в Кыргызстане на постоянной основе, возможно, будет реализован механизм, при котором государство выделит определенные средства, и по мере необходимости будут приобретаться протезы нужного размера из этого фонда.
– Готово ли государство выделять такие средства?
– Эти средства можно заложить в рамках общего бюджета на химиопрепараты. Учитывая среднее количество детей с такими диагнозами в год, вполне реально планировать эти расходы.
В этом году мы планируем вести переговоры с несколькими компаниями, чтобы они обратились в «Кыргызфармацию» и начали регистрацию онкологических эндопротезов, что позволит включать их в заявки по фонду высоких технологий.
– Кто потенциальные поставщики?
– Прежде всего, это Турция и Германия, также рассматривается вариант сотрудничества с Китаем.
– Как изменилось финансирование детской онкологии за последние годы?
– Существенно. Если раньше на лекарственное обеспечение выделялось около 10 миллионов сомов, то сейчас эта сумма составляет от 100 до 200 миллионов сомов в год. Произошла централизация закупок, и сейчас мы можем лечить заболевания, которые раньше не могли лечить.
– Тем не менее, в социальных сетях часто появляются сообщения от родителей и детей, которые просят о помощи, организуют сборы на лечение за границей. С чем это связано?
– Обычно это пациенты, которым необходимо лечение второй линии. Ранее такие дети просто не доживали до этого этапа. Теперь мы выводим их в ремиссию и лечим, но рецидивы, к сожалению, возможны. Лечение рецидивов – это уже высокие технологии, и именно поэтому семья матерится, чтобы найти средства и обратиться за границу.
– Какие инновационные технологии вы считаете приоритетными для внедрения?
– Роботизированная хирургия, молекулярная диагностика, таргетная терапия и многое другое. Детская онкология требует высоких технологий. Если раньше выживаемость была около 20%, то сейчас она составляет примерно 50%. По прогнозам, может достигнуть около 60%.
– Вы упоминали о международных проектах. Какова их значимость?
– Для нас крайне важно стать частью глобальной платформы ВОЗ и клиники святого Иуды (St. Jude). Если нам удастся выиграть, лекарства для первичного лечения будут предоставлены, а высвободившиеся средства можно будет направить на высокотехнологичные методы лечения.
– Какой бюджет, по вашему мнению, необходим детской онкологии?
– Минимум 300–400 миллионов сомов в год, а в идеале – больше. Лечение одного пациента с нейробластомой, которая остается нашей трудной задачей, за границей стоит примерно 300 тысяч долларов. В Кыргызстане ежегодно поступает более 10 детей с таким диагнозом. При этом требуются очень дорогие препараты: стоимость одного флакона около 50 тысяч долларов. На один курс нужно два флакона, а таких курсов – шесть. В итоге речь идет о колоссальных суммах.
– Как же без такого финансирования вы справляетесь?
– Мы работаем строго по протоколам. При высоком риске нейробластомы пересадка костного мозга позволяет достичь излечиваемости примерно у 40% детей. Если добавить один иммунопрепарат – этот показатель может вырасти до 60%, а при использовании другого – до 80%.
Если бы эффективность достигала 100%, государство, безусловно, закупало бы эти препараты. Но нейробластома во всем мире остается одной из самых сложных для лечения опухолей, и только несколько клиник применяют такие препараты с успешными результатами, что, как правило, зависит от финансовых возможностей.
– Как удается соблюдать протоколы лечения, и насколько они соответствуют мировым стандартам?
– Очевидно, что мы не можем полностью соответствовать мировым стандартам. Мы адаптируем протоколы под наши возможности. Так поступают все страны, даже такие, как Турция или Россия, используют адаптированные версии протоколов.
Большую часть требований мы выполняем, но есть заболевания, при которых это крайне сложно из-за дороговизны препаратов и необходимого оборудования. Однако если сравнивать с прошлым, прогресс очевиден.